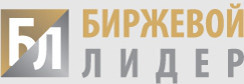Тревожный радикал
Тревожный радикал
Общая характеристика
Внутренним условием формирования тревожного радикала является слабая и малоподвижная нервная система. Она обуславливает прежде всего низкий порог возникновения тревожных реакций, и как следствие, возникает реализация в случае опасности состояния «мнимой смерти». Под «мнимой смертью» мы понимаем быстро развивающееся, непроизвольное угасание у животного и человека психической и физической активности в ситуации сильного стресса. В возникновении этого состояния заключен вполне определённый адаптационный смысл. И чтобы лучше его понять применительно к человеку, вначале рассмотрим, как он действует в животном мире.
Природные пищевые пирамиды очень рационально устроены. В частности, чтобы не терять понапрасну ограниченные запасы белка и других ценных органических соединений, многие плотоядные животные приспособились питаться мертвечиной. Для этого в их организме присутствуют ферменты, мгновенно расщепляющие трупный яд – один из самых токсичных в мире – на более простые в структурном отношении, вполне безобидные химические вещества.
В организме хищников, питающихся живой добычей, таких ферментов нет. И их попытка отведать падали приведёт к неминуемой гибели в результате отравления. Поэтому они и проходят мимо животных, которых принимают за трупы – вовсе не из благородства или высокомерия, как можно было бы подумать, а из инстинктивного опасения за собственную жизнь.
В поведении человека «мнимая смерть», так сказать, во всей красе – явление редкое. Значительно чаще наблюдаются различные формы частичного оцепенения, частичного «паралича» воли, вялость и рассеянность, неспособность собраться с мыслями в минуту опасности и т. п. Всё это – поведенческие феномены, свойственные тревожным натурам.
К тревожным реакциям относятся волнение, беспокойство, собственно тревога, страх, ужас, паника. В отличие от эмоций (коих – целый спектр), они монотонны и субъективно тягостны. Эмоции способствуют сохранению жизненно важного постоянства внутренней среды организма (т.н. гомеостаз), тревожные реакции нарушают гомеостаз. Поэтому эмоции, чаще всего, хочется переживать, от тревоги всегда хочется избавиться.
С одной стороны страх (тревога) является важным средством раннего предупреждения об опасности. Однако низкий порог возникновения тревожных реакций приводит человека к ситуации, когда он начинает бояться любых, даже самых незначительных изменений обстановки. Вообще опасается новизны в любом её проявлении, что оказывает наиболее существенное влияние на стилистику его поведения.
Внешний вид
Специфического «тревожного» телосложения не существует. Но в оформлении внешности «тревожные» являются антиподами истероидов. Если те из кожи вон лезут, чтобы выделиться на общем фоне, то тревожные прячутся от людских глаз, стараются всеми силами слиться с этим самым фоном.
Тревожные выбирают одежду тёмных тонов, неброских цветов: серого, чёрного, коричневого, синего. Предпочитают монохромность костюма. Украшений не любят (речь в данном случае, прежде всего, идёт о женщинах),макияжа стесняются, но боятся отказаться от них совсем, поскольку в этом случае рискуют выделиться из общей массы, погрешив против конвенциональных норм поведения.
Ходят тревожные всегда в одном и том же. Они «прикипают душой» к вещам и стараются как можно дольше сохранять их в целости. Обращаются с одеждой бережно, аккуратно. Не скупость (производное от эпилептоидного радикала), а боязнь столкнуться с проблемой перемены гардероба, с необходимостью приобрести и начать носить что-то новое лежит в основе подобного поведения. Когда, несмотря на все старания, вещи ветшают и окончательно изнашиваются, тревожные, после мучительных колебаний, покоряясь неизбежности, идут в магазин и покупают (с третьей или четвертой попытки)... абсолютный аналог утраченной вещи. То же самое, но в обновлённом, варианте.
Интересно, что когда истероид сталкивается с человеком, одетым в одинаковое с ним платье, он сильно расстраивается. Тревожный в подобной ситуации успокаивается: ура! есть с кем разделить ответственность за выбранный наряд. Таким образом, приобрести обновку для тревожных – проблема, появиться в ней на людях – подвиг. Те из окружающих, кто не принял этого во внимание, в своих попытках «улучшить внешность» тревожного столкнутся с его сопротивлением. Причём, не столько с явным протестом, сколько со скрытым, завуалированным саботажем. Тревожный не хочет наряжаться – и всё тут…
Та же тенденция беречь привычные вещи, сохранять их неизменное месторасположение, с большим трудом и внутренней борьбой приобретать что-то новое (но ни в коем случае не выбивающееся из установленного раз и навсегда неброского имиджа!) прослеживается и в оформлении пространства. Место, где обитает человек, наделенный тревожным радикалом, узнаешь сразу. Там всё чистенько, опрятно, нет ничего лишнего, немногочисленные предметы строго на своих местах.
Именно, что немногочисленные. У эпилептоидов тоже всё аккуратно, но они смело оперируют большим числом предметов, разнообразных вещей, без конца классифицируя их, сортируя, раскладывая по полочкам. Когда собственных полочек эпилептоиду уже не хватает, он протягивает руки к чужим, осуществляя вынужденную (сами ведь не могут навести порядок!) экспансию. Эпилептоид расширяет границы занимаемого им пространства; тревожный – суживает до «прожиточного минимума». Эпилептоид постоянно покушается на чужую сферу компетенции; тревожный рад бы отказаться от части своей, лишь бы его оставили в покое. В этом принципиальное отличие указанных радикалов. Хотя в них и много общего. Эпилептоид боится жизни не меньше тревожного, но ему хватает сил агрессивно защищать свою территорию и диктовать свои условия тем, кто их готов выслушивать, а тревожный бывает деморализован собственным страхом. Возможно, тревожный радикал – есть некое качественное продолжение эпилептоидного, следующий этап развития органических изменений в нервной системе.
Пространство тревожных не похоже также и на пространство истероидов. И не только тем, что у истероидов предметы, создающие интерьер, яркие, цветастые, запоминающиеся, а у тревожных – блёклые, тёмные, нарочито заурядные. Истероиды персонифицируют свое пространство, чётко обозначают, кто в нём обитает, кто осчастливил его своим присутствием: повсюду их фотографии и живописные портреты, именные кубки, грамоты, открытки, книги с дарственными надписями типа и т.п. Тревожные, напротив, избегают подобной самопрезентации. Их пространство безлико, оно словно никому конкретно не принадлежит.
Среди вещей, особенно дорогих тревожным - амулеты, обереги и т.п. Их немного, часто – всего один, но такой, с которым тревожный человек идёт по жизни, не расставаясь. Подобный амулет хранится с особой тщательностью, в самые тяжёлые минуты играя роль клапана, через который отводится излишек страха. К нему обращаются с молитвой, заклинанием: «Спаси, сохрани, избавь, укрепи дух.» и т.д. Потеря амулета для тревожных равносильна потере близкого друга. При этом они могут надолго потерять душевное равновесие.
Позы тревожных, их мимика и жестикуляция весьма сдержанны, нередко как бы вообще отсутствуют. Их движения настолько невыразительны, что их трудно разглядеть, а тем более запомнить. Они все время «сидят на краешке стула», боясь привлечь к себе излишнее внимание. Можно находиться с тревожным в одной комнате и не чувствовать, что он рядом. Не потому, что человек будет специально прятаться, скрываться. В том-то и дело, что он просто будет вести себя, как всегда, тихо и незаметно, что естественно для него. Единственное, что более или менее отчётливо отражается на лицах тревожных, так это оттенки страха (при длительном стрессе – хронического).
Тревожные разговаривают обычно мало, негромко, их голос монотонный, слабо модулированный. Вместе с тем, значимым с психодиагностической точки зрения является контраст поведения тревожных в привычном и в новом для них окружении. Тревожная тенденция имеет свойство несколько угасать, отступать на задний план, когда её обладатель находится среди друзей, в предсказуемой комфортной обстановке. И тогда другие радикалы, составляющие реальный характер, выходят вперёд, формируя иной стиль поведения.
Качества поведения
Тревожный радикал наделяет своего обладателя такими качествами, как боязливость, неспособность на решительный шаг, склонность к сомнениям и колебаниям во всех жизненных ситуациях, мало-мальски отличающихся от привычной. Говорят: семь раз отмерь, один – отрежь. Тревожный радикал отмерит семьдесят семь раз, и после этого всё ещё будет пребывать в раздумьях – стоит ли отрезать?
Тревожный человек, говоря словами Чехова (рассказ «Припадок»), «сторожит каждый свой шаг и каждое своё слово, мнителен, осторожен и малейший пустяк готов возводить на степень вопроса». Есть ли в этой совокупности родственных качеств социально позитивный смысл? Безусловно, есть! Как есть смысл, например, в автомобильном тормозе. Попробуйте-ка обойтись без него…
По сути, проявляя присущую ему осторожность, тревожный требует от любого, кто стремится к новизне, к внедрению новых условий и правил жизни, по-настоящему убедительных доказательств объективной необходимости перемен, продуманности, взвешенности вносимых предложений. Препятствуя нововведениям, тревожный ревностно хранит традиции – и производственные, и бытовые, и мировоззренческие. По их мнению, вообще ничего в мире не нужно менять. Пусть всё остается как прежде – чинно и благородно. Тревожный – истинный консерватор.
Существуют, как известно, две основные тенденции в развитии природы и общества: изменчивость (приобретение новых полезных свойств), и наследственность (консервация лучшего, что удалось приобрести на предшествующих этапах эволюции). Тревожные олицетворяют собой, точнее всемерно поддерживают – наследственность. С тем лишь очень важным добавлением, что они стремятся консервировать не всегда действительно лучшее, а лишь – привычное.
В деятельности тревожные исполнительны, пунктуальны, организованны, потому что страшатся, не выполнив задания в установленный срок, оказаться в нестабильной, непредсказуемой ситуации. При этом, прежде чем взяться за работу, они пытаются всячески минимизировать степень своей ответственности, для чего добиваются от руководителя чёткой постановки задачи, подробных инструкций «на все случаи жизни». Занудный тревожный исполнитель будет «доставать» своего начальника бесконечными вопросами типа: «А если… как тогда поступать? А вдруг… тогда что?» И, вполне вероятно, утомленный шеф сочтёт за благо перепоручить это задание другому сотруднику. В этом случае тревожный, внутренне ликуя, не преминёт упрекнуть руководителя в непоследовательности: дескать, сам не знает, чего хочет – то «сделай» ему, то «не делай».
Но уж если берутся за что-то тревожные, то постепенно «врастают» в порученное им дело, в избранную профессию, с каждым годом осваивая её всё прочнее и детальнее, во всех нюансах. Кроме того, им психологически комфортно приходить каждый раз в один и тот же кабинет, садиться за один и тот же рабочий стол. Поэтому они не изменяют своему поприщу – служат верно и долго. Это именно тревожные отмечают сорока-, пятидесятилетия работы на одном месте, на одном предприятии (нередко в одной и той же должности!). Действительно, тревожным в тягость осуществление руководящих функций, поэтому часто, будучи хорошими, опытными профессионалами, они категорически отказываются от предложений занять должность начальника, пусть даже самого маленького.
В общении с окружающими тревожные также проявляют избирательность и постоянство. Они долго присматриваются к человеку, прежде чем пойти на постепенное сокращение межличностной дистанции. Но тем, кого они «подпустили поближе», к кому привыкли, тревожные остаются преданными на долгие-долгие годы, нередко на всю жизнь. Таким образом, круг их близкого общения весьма узок, и может состоять из одного-двух друзей детства.
Важно понимать, что наличие тревожного радикала НЕ делает общение более доброжелательным, гармоничным, «сердечным». Тревожные вовсе не добры, не приветливы, не деликатны. Они лишь предпочитают держаться на расстоянии и помалкивать, когда их не спрашивают.
Задачи
Диапазон задач, с которыми способен, в принципе, справиться тревожный, на удивление не так уж и узок. Тревожного можно научить выполнять многие виды работ, в том числе довольно рискованных, объективно опасных. Но при одном непременном условии – учить его надо будет долго, постепенно, «шаг за шагом», причём шаги должны быть очень маленькими, осторожными. Не дай бог – испугается!
Тревожный должен привыкнуть ко всему новому, что ему навязала жизнь. Появится привычка – тревога несколько отступит. Нередки ситуации, когда тревожный вначале яростно сопротивляется переменам, затем, приспособившись, притерпевшись к новому положению вещей, не менее яростно возражает против попыток вернуться к старому.
Лучше всего, комфортнее, ему, разумеется, справляться с рутинной, монотонной работой. Хуже всего – с деятельностью, предполагающей необходимость принимать самостоятельные решения, тем более, не имея времени на их подготовку и осмысление – смело, экспромтом, на свой страх и риск.
Особенности построения коммуникации
Общаясь с тревожным, следует избегать проявлений, прежде всего, истероидности и гипертимности. Тревожный, опасаясь негативных для себя последствий, интуитивно сторонится и не одобряет поведения людей, жаждущих публичного признания («выскочка, – думает он про таких неприязненно, – болтает, обещает... ещё беду накличет»), а также готовых пуститься на любую авантюру. Тревожные ценят в людях последовательность, постоянство, скромность, отсутствие амбиций и планов переустройства мира (из-за этого, как вы понимаете, достаётся от них и параноикам).
Испытывая нечто вроде благодарности к эпилептоидам за их настойчивость в установлении и поддержании строгого порядка, тревожные, тем не менее, боятся эпилептоидной грубости и излишней требовательности. Часто вместо покорности, повиновения и исполнительности, к которой склонны, они обнаруживают в ситуации прямого контакта с обладателями этого мизантропического радикала всё ту же несостоятельность, впадая в «мнимую смерть».
Очень любят общество эмотивных, но не чувствуют в них необходимой опоры, защиты.
Грубыми коммуникативными ошибками в отношении тревожного будут:
а) озадачить его и оставить без моральной и информационной поддержки, один на один с непредсказуемо развивающимися событиями;
б) поставить его в условия, требующие быстрого принятия решения (независимо от степени сложности решаемого вопроса);
в) отказаться от ранее достигнутых договоренностей, резко изменить согласованные с ним правила коммуникации, пусть даже очевидно для пользы дела.
Во всех этих случаях он испытает сильный психологический дискомфорт, приостановит свою активность («мнимая смерть»), а вас запишет в «непредсказуемые», что в устах тревожного является наихудшей оценкой человека. Возобновить с ним контакты после этого будет крайне сложно.
P.S. Вот и рассмотрены все семь типов радикалов. По этому поводу хочу заострить ваше внимание на том, что это – семь отдельных кусочков мозаики. Да, количество кусочков в данном случае теперь полное, и они сами по себе достаточно большие, яркие и информативные – однако мы имеем перед собой ворох разбросанных в беспорядке кусочков – картинки ещё пока нет! Характер пока ещё – НЕ выявлен! Работа – НЕ закончена! Нам ещё только предстоит применить эту информацию, и аккуратно начать ею пользоваться для описания конкретного человека… Чем мы и займёмся!
Горячие Новости |
|
Рекомендованный брокер №1Журнал «Биржевой лидер»Журнал, интересные статьи
Видео
|
Энциклопедия
 7 июня |
 Болезнь (заболевание) |
 Коста-Бланка |
 Токийская фондовая биржа |
 Буддизм |
 Компания «Джордан» |